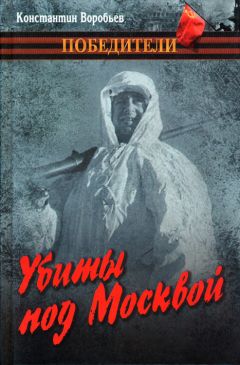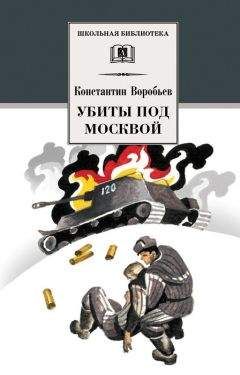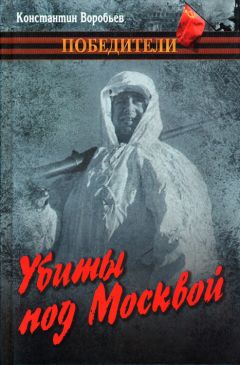Анатолий Ким - Будем кроткими как дети [сборник]
И, пригвоздив этим аргументом воображаемого Турина к безмолвию, Тянигин останавливал на высшей точке перевала машину, выключал фары и несколько минут сидел в темноте, положив гудящую голову на колесо руля. Потом выходил из кабины поразмять ноги. А где-то совсем недалеко от мащины возвышалась обочь дороги насыпная пирамида из камней, бутылок, пустых банок, спичечных коробков и цветных тряпочек, набросанных туда проходящими через перевал путниками — в надежде ли? в молитвах? в отчаянии? — а над пустым и ровным, словно порог перед небытием неба, гребнем перевала блистали тысячи звезд, которые казались такими близкими и доступными. Но Тянигин знал, что до звезд далеко. Как следует промерзнув на их свету, он вновь садился в машину, заводил мотор, зажигал фары, разворачивался и ехал назад домой.
11
А Гурин в это время сидел в номере акташской гостиницы и, мучаясь жуткой зубной болью, писал в своей тетради:
ПОСЛАНИЕ К ЛЮБИМОЙ, КОТОРОЕ ОНА НИКОГДА НЕ ПОЛУЧИТ
Милая, милая Елена!
Вполне надеюсь, что ты изорвешь мое «Послание» и выкинешь в мусорный ящик, если оно каким-нибудь чудом все же попадет к тебе в руки.
Сижу двадцатые сутки в гостинице города Акташ. Это между Чикаго и Завалуйками, недалеко от Африки.
Сюда я приехал по следующей причине. Помнишь, я просил тебя приютить у нас одну девушку, ну, ту самую из «секты смоктунов», ты еще нос мне разбила из-за нее? Так вот, я узнал, что она завербовалась и уехала в этот город, и я приехал сюда с тем, чтобы на ней жениться, вот уже двадцать дней сижу в номере и маюсь. Но что-то мне не женится пока.
Во-первых, лютый холод на улице, морозы не менее сорока градусов. А я, прости меня, даже без теплых кальсон. Вот и боюсь высунуть нос из гостиницы. Доколе буду сидеть, не знаю. Деньги еще не кончились, посижу. От нечего делать занялся, как видишь, писанием прозы, недавно сочинил даже «Утопию»…
Вторая причина, из-за которой я не женюсь и даже не пытаюсь найти эту чертову девчонку, вот какая. Я, оказывается, люблю тебя. Надо было погрузиться в самую пучину мира, чтобы понять сию простую очевидность. Но это ничего не значит. Разве оттого, что я люблю тебя и что зимняя облепиха горит, как коралловый застывший дождь на фоне голубого неба, изменится что-нибудь на этой земле? Я уж больше тебе не нужен, и об этом ясно говорят мой разум и мое сердце. Но тем более мне отрадно осознавать, что я люблю тебя.
Простая вещь, синяя расческа, открыла мне всю правду. Эту расческу я взял у тебя, ибо собственной у меня не было, когда я водил сына к себе в театр на утренник, мне хотелось причесать его вихры перед тем, как показать нашему народу. Отцовское самолюбие… Итак, я нашел эту расческу во внутреннем кармане серого пиджака и много часов проплакал над ней. Ведь это была единственная вещь, напоминавшая о тебе, — ведь ничего, ни единой фотографии я не взял с собою. Но бог с ней, с этой расческой, я ее выкинул через форточку в сугроб, и теперь, когда настанет весна, ее найдет какой-нибудь посторонний человек, и она ничего особенного ему не. скажет. Так — синяя дешевая пластмассовая расческа…
Если бы тебе было интересно, о чем я передумал за последнее время, я бы многое мог рассказать, но тебе этого не нужно, и потому я ограничусь перечислением внешних фактов. Мне Алексей на прощанье подарил ватные штаны и телогрейку, и в этой новенькой амуниции я должен был вступить в свое великое опроще- „ние. Я перешил на телогрейке пуговицы, чтобы сидела на мне потеснее. Когда кончатся деньги, я пойду, наверное, на асбестовые разработки или на стройку, деваться-то мне будет некуда. Итак, со старым все покончено.
Прав ли я, поступая подобным образом? Не знаю, не совсем уверен. Впрочем, отчего бы мне не попробовать? Только очень холодно здесь, вот беда. Я уже неделю провалялся с гриппом, вызывали даже «неотложку» в гостиницу. Но надеюсь, что скоро привыкну к климату. Мне снишься ты, снится мальчик. Во сне я с тобою много и хорошо разговариваю, и ты вроде бы все понимаешь и смотришь на меня с сочувствием. Но обязательно каждый раз находится причина, по которой ты должна уйти от меня. То в «Гидропроекте» у вас банкет и за тобою должны приехать на специальном автобусе, то оказывается, что ты вышла замуж, и у тебя уже трое детей, и ты говоришь: «Нет, нет, поздно, ради детей я должна пожертвовать собою». И я понимаю, что ты права. Но все это очень скучно и может даже вызвать сочувствие ко мне, поэтому я дальше не стану развивать тему.
Расскажу лучше, что вижу вокруг себя. Я живу в двухместном номере. Моя кровать стоит ближе к окну, в которое видны длинные бараки вдали, за пустырем. Возможно, где-то в них живет моя Ассоль со своими фотографиями Смоктуновского, и, возможно, буду жить я в недалеком будущем. Далее, за какими-то высокими трубами, вижу горы, горы серого цвета, со снежными клиньями на склонах. Среди этих гор затеряны селения сарымцев. Дальше и выше гор виднеется пустынное сарымское небо, блеклое, серо-голубое в эти седые морозные дни. Ночью, конечно, звезды — поразительное огромное скопище здоровенных ярких звезд. Долго прожив в Москве, я отвык от подобного ночного неба…
На второй кровати часто меняются соседи, всякие командированные люди. Поучительное разнообразие характеров и судеб! Один, кавказец с печальными гордыми глазами, рассказывал, как с чемоданом денег ездил в Москву развлекаться — думал царицу какую-нибудь купить себе, а застрял на первой попавшейся официантке из шашлычной… Второй, техник-наладчик автоматических линий, часто бывал в заграничных командировках. Хорошо осведомлен насчет валютных курсов; купил машину, но в его отсутствие жена ехала с ребенком и врезалась в столб, оба остались целы- невредимы, но машина пострадала основательно, чуть не плакал, рассказывая об этом — то есть о том, как проклятая жена разбила новую машину. Еще один чудак, пожилой и лысый механик из совхоза, рассказывал, как в молодости крепко увлекался шахматами, дни и ночи сидел и думал над доской, из-за чего и волосы все выпали и жена ушла от него. Четвертый, седой пузач, ни о чем не рассказывал, улыбался зубастой интеллигентной улыбкой, был вежлив, зато надрался к вечеру до бесчувствия, даже ночью вставал и пил, а затем храпел, дико вскрикивал, и падал с кровати, и никак не мог взобраться обратно, пришлось мне помогать. Пятый… но так можно бесконечно.
К чему это я? Ведь ночь на дворе, глухая окаянная ночь. Ведь скучно, скучно!.. Жизнь свелась к очень маленьким величинам, к самым ничтожным действиям. Бритье по утрам… носки, которые надо постирать… Я уже к тебе не вернусь, да и ты давно несешься вскачь по вольной волюшке без меня, обезумев от радости, и теперь всегда захочешь без меня, но, ей-богу, в иные минуты я не прочь был бы вернуться в твой ад. Не все ли мне равно? Однако минута слабости проходит. И все хорошо, вот если бы только не снилась ты так часто. Всегда после таких снов, проснувшись, я чувствую, что вроде бы ни к чему мне было и просыпаться. Прости, я опять увлекся.
Я непригодный для этой реальной жизни человек. Я не умею зарабатывать, не могу постичь законов рынка, не люблю свой дом, в семейной жизни не нашел ни одной стороны, которую не хотелось бы отмести от себя, в профессии своей оказался посредственным, но завистливым (однако в меру), не заимел интереса к накопительству и добыванию вещей, узрел эгоистическую жестокость в любви и почувствовал к ней интеллектуальное отвращение, в общем-то довольно равнодушен к еде, одежде, курортным развлечениям, к альпинизму и туризму. Моя альтруистическая миссия по делу спасения одной заблудшей хорошенькой овечки закончится скорее всего ничем. Я уже рад, что найти ее в этом многотысячном барачном Вавилоне нелегко, не зная адреса, — я же поехал, думая увидеть небольшой поселок городского типа, где каждый знает каждого, и не позаботился взять адрес. Чему сейчас втайне рад. Так на что же я все-таки пригоден? Дошел до того, что пишу обо всем этом тебе, у которой от ненависти ко мне спирает, наверное, дыхание.
Но на что-то я все-таки должен быть пригоден! И то, что я попал в этот город, уже не шутка. У меня уже есть телогрейка и ватные штаны. Я примерял эти штаны перед зеркалом, они меня делают неузнаваемым. Итак, я готов к великому перерождению. Вот сижу и жду, когда оно начнется. Я уже сказал себе твердо, что покончено с жизнью, в которой целью являлось только личное самоутверждение. Теперь я решил плюнуть на себя и жить по иным законам — жизнью мудреца. Только вот законов этих я не знаю и мудрость ко мне не пришла.
Я, как те старые сарымцы, что сидят неподвижно на горных вершинах, словно усталые коршуны, и неподвижно созерцают дали своей суровой родины, сижу сейчас и воображаю будто бы свою прошлую жизнь. В ней много овец и баранов пыльного цвета, бредущих по сухой степи. Лошади взлетают на всем скаку к вершине бугра. Нищие караваны облезлых верблюдов, навьюченных разобранными юртами, палками, закопченными котлами… Но какою бы хлопотной она ни была, моя кочевая жизнь, — она бесплодна, как степь, и пуста, как серебристый мираж. Мне самому плакать хочется, когда, оглядываясь назад, вижу одни безжизненные гряды серых гор, через которые зачем-то надо было переползать, словно муравью, но я сомневаюсь, чтобы жизнь моя была хуже, чем у других людей на земле. Я знаю о ней немало, и все, что я, степной кочевник, знаю, всегда при мне. А то, что ем я с ладони прожаренное пшено и никогда не носил белья, имеет ли какое- нибудь существенное значение? Я стал терпелив и печален, и это не самые худшие качества человека. Еще не состарившись, я готов был умереть, потому что слишком ясна мне стала непреклонность смерти. И, подобно зарезанному барану, я с последним хрипом своим унес бы в небытие свою печаль и свои знания, никому не причинив вреда.